Как демократизировалась Европа?
 В представленной статье рассматриваются четыре книги, в которых показывается, что утверждение демократии в Европе в конце XIX века не было исключительным и абсолютно детерминированным следствием модернизации, как это традиционно изображается. Почему же Европа пришла к демократии? И можно ли извлечь из истории той эпохи какие-то уроки для современного мира, где усилия по демократизации приводят не к торжеству либеральной демократии, а к тому, что называется разнообразными «нелиберальными демократиями», «соревновательными авторитаризмами» или «гибридными режимами»?
В представленной статье рассматриваются четыре книги, в которых показывается, что утверждение демократии в Европе в конце XIX века не было исключительным и абсолютно детерминированным следствием модернизации, как это традиционно изображается. Почему же Европа пришла к демократии? И можно ли извлечь из истории той эпохи какие-то уроки для современного мира, где усилия по демократизации приводят не к торжеству либеральной демократии, а к тому, что называется разнообразными «нелиберальными демократиями», «соревновательными авторитаризмами» или «гибридными режимами»?
Рецензия на книги:
· Daron Acemoglu and James A. Robinson. The Economic Origins of Dictatorship and Democracy.Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
· Carles Boix. Democracy and Redistribution.Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
· Ruth Berins Collier. Paths toward Democracy.Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
· Charles Tilly. Contention and Democracy in Europe, 1650-2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2005/ Чарльз Тилли. Борьба и демократия в Европе, 1650-2000 гг.М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010.
 Когда мы задумываемся о том клубке дилемм и вызовов, с которыми в настоящее время сталкиваются процессы демократизации во всем мире, успешное становление демократии в крупнейших странах Западной Европы второй половины XIX века выглядит чем-то поистине выдающимся. Возникающий в тени реакции, которая последовала за Французской революцией, сталкивающийся с новыми и не до конца понимаемыми экономическими сдвигами и отсутствием, за неимением точного плана «демократических преобразований», уверенности в проведении реформ, относительный успехдемократических реформ в Европе конца XIX века должен представать перед современными политологами как что-то почти непостижимое.
Когда мы задумываемся о том клубке дилемм и вызовов, с которыми в настоящее время сталкиваются процессы демократизации во всем мире, успешное становление демократии в крупнейших странах Западной Европы второй половины XIX века выглядит чем-то поистине выдающимся. Возникающий в тени реакции, которая последовала за Французской революцией, сталкивающийся с новыми и не до конца понимаемыми экономическими сдвигами и отсутствием, за неимением точного плана «демократических преобразований», уверенности в проведении реформ, относительный успехдемократических реформ в Европе конца XIX века должен представать перед современными политологами как что-то почти непостижимое.
И вправду, как Европа пришла к демократии? В этой статье рассматриваются четыре книги, в которых утверждается, что приход демократии в Европу в конце XIX века не был исключительным и сверхдетерминированным следствием модернизации, как это традиционно изображается в рамках сравнительного подхода. Вместо этого в них показывается, что беспорядочным политическим реалиям Европы XIX века также была присуща своя доля неопределенности, страхов и уступок, часто считающихся симптомами исключительно современной демократизации. Конечно, продвижение в сторону всеобщего избирательного права для мужчины, повышения подотчетности исполнительной власти перед избранными национальными парламентами и институционализация гражданских прав резко изменили политические порядки Европы периода «демократической эпохи». Но вопросы остаются. Как удалось достичь этих сложных институциональных нововведений в условиях, которые вряд ли могут считаться наиболее благоприятными? И какие уроки следует извлечь из этого опыта для осуществления сегодняшних попыток демократизации?
Традиционное описание европейской демократизации исходит из довольно известной, хотя и вводящей в заблуждение периодизации, согласно которой переход Европы к демократии был трудным, но крайне незаурядным, и происходил под воздействием неотвратимых «сил» истории. Считается, что, пройдя сквозь века феодализма, абсолютизма, революций, через индустриализацию в «эпоху демократии», большинство крупных западных европейских стран успешно пересекли рубеж, за которым и приобрели те характеристики, которые мы приписываем демократии. Несомненно, ключевым эмпирическим противоречием в рамках этого подхода становится провал демократии в межвоенный период, пусть даже учитывая кажущуюся надежность демократии в наиболее экономически развитых странах мира [2]. В результате, несмотря на завершение первой волны демократизации к середине XX века, распространилось убеждение в том, что между 1820-1920 гг. существовал независимый и точно идентифицируемый период, в котором волна демократизации изменила национальные политические институты и привела к формированию качественно отличного от своего предшественника нового политического режима [3].
Естественно, существуют исключения из общей логики истории. Обычно в качестве примера достаточно устойчивых «недемократий» того времени называют Пруссию с ее трехклассовой избирательной системой, Германию с относительно слабым национальным парламентом, Южную Италию с широко распространенной покупкой голосов и системой клиентелизма, бонапартизм Наполеона III, значительно ослабивший парламентские институты, а также Великобританию с ее исключительно сложными правилами, ограничивающими возможность голосования и регистрации избирателей, призванными минимизировать политическое участие. Но все это, как правило, расценивается в качестве периферийных отклонений от магистрального тренда той эпохи.
В рассматриваемых в этой статье четырех книгах утверждается, что эти отклонения с их антидемократической направленностью на самом деле и были ключевыми элементами демократической эпохи. Чтобы по-настоящему оценить антидемократические правила и практики, которые часто создавались и институционализировались в ходе европейской демократизации, мы можем пересмотреть традиционно описываемую европейскую исключительность. Кроме того, мы сможем извлечь уроки из этой бушующей эпохи в истории Европы для нашего времени, в котором усилия по демократизации приводят не к эффективному либерально-демократическому режиму, а к тому, что называется разнообразными «нелиберальными демократиями», «соревновательными авторитаризмами» или «гибридными режимами», совмещающими демократические и антидемократические институты, нормы и практики [4].
Именно здесь кроется наиболее дерзкая догадка, высказываемая в рассматриваемых книгах: смена режима, даже когда речь идет о значимых примерах в истории Европы, так часто приводимых в качестве образцов успешного «перехода» к демократии, оказывается куда более хаотичным и неоднозначным процессом, чем это обычно считается. Европейская демократизация — как и любая другая — не просто представляла собой переход от одного режима к другому, но часто влекла или объявляла необходимым совмещение демократических реформ с микроуровневыми формальными и неформальными мерами, обеспечивающими безопасность недемократическойэлиты, включая процедуру формирования верхней палаты парламента, джерримендеринг, клиентелизм и коррумпированные правила регистрации голосов. Как и в современных случаях смены политического режима, такие меры, как правило, характеризуются противоречивыми и непредсказуемыми последствиями. Возможно, нацеленные на снижение неопределенности результатов «демократического соревнования», дабы власти и влиянию недемократической элиты ничто не угрожало, такие меры по иронии судьбы могут стать дополнительной опорой демократии, обеспечивая поддержку минимальных демократических процедур со стороны традиционных элитных групп. Короче говоря, противоречивые итоги первой волны демократизации не так уж отличаются от современного опыта, что — как указывается в этих книгах — может оказаться достаточно полезным для понимания как первого, так и последнего.
Следует предупредить читателя, что в рассматриваемых книгах обозначенные позиции упоминаются не напрямую, а в тех случаях, когда затрагиваются три важных вопроса, наиболее способствующих глубокому пониманию демократизации Европы. Будучи политэкономистами Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон (АиР), а также Карлес Бош вносят существенный вклад в исследование изменений структурного неравенства доходов, определяющего возможности проведения демократических реформ; Рут Бэринс Колье пытается определить, какая социальная группа — элита или рабочий класс — сыграла главную роль в реализации этой возможности. Наконец, Чарльз Тилли и АиР поднимают третий вопрос: чем именно обеспечивается демократия? Взятые вместе, эти исследования проясняют три ключевых вопроса возникновения демократий: как возникает возможность институциональных изменений; кто оказывается наиболее значимым актором и какие цели им движут, атакже каков фактический процесс, посредством которого обеспечивается достижение демократии?Настоящий обзор основывается на рассмотрении этих трех вопросов, тем самым подчеркивая, что именно ими необходимо руководствоваться в переосмыслении концепции демократизации.
I. Что вызывает демократизацию?
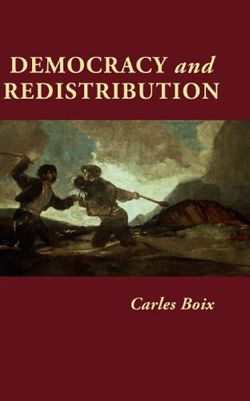 Большинство объяснений демократизации начинается с трудного, но не бесполезного вопроса: что способствует созданию первоначальных условий, которые делают возможными демократические реформы? По целому ряду разумных причин, политические социологи и политологи, как правило, склонны отводить роль спускового крючка в механизме демократизации экономическим изменениям, нежели другим возможным альтернативам вроде крушения империй или стихийных бедствий [5]. Очевидно, вдохновляемая временным совпадением промышленной революции и демократизации в Европе, теория модернизации в период после окончания Второй мировой войны стремилась утвердить это простое предположение, указывая на наличие межстрановой корреляции между показателями ВВП на душу населения и демократией. Ею предполагалось, что экономическое развитие в трансформирующихся обществах, уменьшение дефицита и изменение культурных ценностей делают переход к демократии более вероятным, а саму демократию более стабильной [6]. Но, начиная с Баррингтона Мура (1966) и заканчивая исследованиями Пшеворского и Лимони (1997), наличие казуальной основы для позитивной связи между национальными благосостоянием и демократией постоянно ставится под сомнение [7].
Большинство объяснений демократизации начинается с трудного, но не бесполезного вопроса: что способствует созданию первоначальных условий, которые делают возможными демократические реформы? По целому ряду разумных причин, политические социологи и политологи, как правило, склонны отводить роль спускового крючка в механизме демократизации экономическим изменениям, нежели другим возможным альтернативам вроде крушения империй или стихийных бедствий [5]. Очевидно, вдохновляемая временным совпадением промышленной революции и демократизации в Европе, теория модернизации в период после окончания Второй мировой войны стремилась утвердить это простое предположение, указывая на наличие межстрановой корреляции между показателями ВВП на душу населения и демократией. Ею предполагалось, что экономическое развитие в трансформирующихся обществах, уменьшение дефицита и изменение культурных ценностей делают переход к демократии более вероятным, а саму демократию более стабильной [6]. Но, начиная с Баррингтона Мура (1966) и заканчивая исследованиями Пшеворского и Лимони (1997), наличие казуальной основы для позитивной связи между национальными благосостоянием и демократией постоянно ставится под сомнение [7].
Две из рассматриваемых книг (Бош и АиР) пытаются уладить этот спор, предлагая альтернативный набор механизмов, которые могут успешно способствовать воскрешению структурной теории демократизации, подчеркивающей ключевую роль экономических изменений в начале демократических преобразований. Но приводимые ими аргументы не сосредоточены вокруг вопросов совокупного дефицита и источников культурных изменений, а заостряют свое внимание на том, каким образом изменение структуры неравенства в доходах связано с экономическим развитием и появлением возможности для демократизации.
Бош: «Демократия и перераспределение»
Карлес Бош ставит перед собой амбициозную задачу по разработке «единой модели» политических переходов, позволяющей просчитать возникновение демократий, правых авторитарных режимов и революций, приводящих к гражданским войнам, коммунистическим и левым диктатурам (p. 2-3). В работе используются основные положения и инструментарий теории рационального выбора. Цель состоит в разработке и проверке объяснения перехода от одного режима к другому, основанного на экономическом развитии, но при этом предлагающего альтернативу ярким, но не до конца определенным утверждениям теории модернизации. Результатом стала впечатляющая и теоретическая последовательная схема изменения политического режима. Согласно Бошу, существует два фактора, связанные с показателем ВВП на душу населения, но более значимые в причинно-следственном отношении, которые позволяют определить взаимосвязь между национальным благосостоянием и демократией, а также объяснить причины аномальных отклонений, — например, случаи стран, богатых сырьевыми ресурсами и тяготеющих к авторитаризму. Два этих фактора—экономическое неравенство и специфичность активов — находятся в центре анализа автора. Бош считает, что по мере снижения неравенства, достигаемого экономическим развитием, демократия становится все менее и менее значимой угрозой для недемократических лидеров. Поскольку демократии, согласно рабочему определению Боша, учитывают предпочтения более широкого числа граждан, чем недемократии, они склонны устанавливать больший уровень налогообложения в отношении богатых слоев и, соответственно, больше перераспределять. Сопротивление этим процессам со стороны недемократических лидеров (которые без особенно веских эмпирических свидетельств также именуются «богатыми») исходит из страха перед слишком высокой ценой перераспределения; однако, по мере уменьшения неравенства, потенциальные расходы на перераспределение достигают значения, которое оказывается ниже издержек, связанных с осуществлением репрессий. Именно в такие моменты демократизация становится возможной [8].
Аналогичным образом вторая переменная в модели Боша — специфичность активов, или, другими словами, степень мобильности основных общественных активов (например, капитал, вложенный в аграрный сектор, как правило, менее мобилен, чем человеческий или физический капитал), — определяет вероятность перехода к демократии. Если под контролем элиты оказываются активы с низкой мобильностью (такие, как земля или нефть), то ее члены опасаются, что в результате демократизации их владения окажутся обложены огромными налогами, уплаты которых нельзя будет избежать. Однако, если специфичность активов снижается (они становятся более мобильными), что и имело место в период европейской индустриализации XIX века, возможные потери от налогообложения оказываются значительно меньше. Тем самым издержки, которые влечет за собой демократизация, перестают угрожать существующей элите.
Ключевой и наиболее интригующей частью причинно-следственных построений Боша становится вопрос о влиянии среднего класса на процесс демократизации (p. 47 - 52). После введения третьегоколлективного актора («богатые», «бедные» и«средний класс») логика анализа усложняется: если экономический рост приводит к увеличению благосостояния среднего класса, а позиции богатых и бедных остаются относительно неизменными, то разрыв между богатыми и средним классом сокращается и в результате издержки перераспределения оказываются меньше издержек осуществления репрессивной политики в отношении среднего класса. К каким последствиям это ведет? Становится возможным формирование межклассовых коалиций. Богатые недемократические элиты могут согласиться с введением «ограниченной демократии» (как называет ее Бош), которая предусматривает частичные избирательные права для среднего класса. Однако, как только разрыв между бедными и средним слоями также начинает сокращаться, становится возможным то, что Бош называет «всеобщим избирательным правом».
Аргументы Боша вскрывают смелые теоретические амбиции автора; он утверждает, что выделенные им процессы—снижение уровней неравенства и специфичности активов — и оказались главными причинами того, почему экономический рост в северо-западной части Европы повлек за собой демократизацию. Кроме того, его подход пытается объяснить, почему европейская демократизация проходила постепенно. Наконец, его доводы могут также определить барьеры на пути демократизации, как сегодня, так и в прошлом. В исторической ретроспективе его подход проясняет, почему аграрные элиты, наподобие прусских юнкеров XIX столетия, пытались препятствовать демократизации. В отношении сегодняшнего дня данный подход объясняет, почему страны, основная часть благосостояния которых обеспечивается отраслями с преобладанием высокоспецифичных активов (таких, как нефть), как правило, не стремятся к демократии. Бош обосновывает эмпирическую ценность своих аргументов, используя анализ большого числа случаев 1850-1990 годов, а также двумя подробными национальными исследованиями. В рамках первого после бинарного кодирования типа политического режима (демократия-авторитаризм), высчитываются вероятности перехода от авторитаризма к демократии на основании большого числа косвенных оценок значений основных переменных. Два страновых исследования (Швейцария и США xix века) показывают, что в тех кантонах и штатах, где неравенство в доходах было более низким, ограничения избирательных прав были менее жесткими [9].
Для этого амбициозного, но основательного подхода можно отыскать и некоторые эмпирические доказательства. Однако остаются еще две области, заслуживающие дальнейшего внимания. Во-первых, откуда берется спрос на демократию? Это вопрос важен, поскольку, в рамках проводимого автором анализа, объясняется только то, почему богатые соглашаются идти на уступки тогда, когда этих уступок начинают требовать. Бош подчеркивает степень мобилизации бедных слоев населения как фактор, способствующий востребованности демократии. Но это нельзя считать полноценным ответом по двум причинам. Во-первых, учитывая логику предыдущих доводов, снижение неравенства в доходах, которое влияет на степень «допустимости» демократии, должно, в том числе, способствовать снижению спроса на демократию у бедных слоев. Бош, вероятно, прав в том, что сокращение разрыва в структуре доходов в Англии перед Первой мировой войной снизило издержки перехода к демократии (p. 39), сделав к 1918 году возможным введение всеобщего избирательного права. Но как этот подход объясняет устойчивость спроса на всеобщее избирательное право в случаях, когда неравенство сокращается? Если сокращение неравенства и в самом деле такая важная переменная, то как она может объяснить одновременно и растущий спрос на перераспределение, и рост готовности элиты согласиться с издержками этого перераспределения? И, во-вторых, всегда ли спрос на демократию возникает «в низах» общества в результате стремления бедных слоев к большему перераспределению? Можно было бы утверждать, например, что мотивом реформ 1832 года, как и последующих реформ в Англии этой эпохи, были не столкновения за перераспределение между столь скупо и схематично описанными классами в трехчастной модели общества, предложенной еще Рикардо, а конфликт между реально существующими институциональными акторами: владельцами экономических активов, налогоплательщиками, и контролирующими государство правительственными чиновниками [10]. Или аналогичным образом сами по себе демократические реформы, возможно, не были попыткой откупиться от бедных или средних классов, а, напротив, были институциональными изменениями, инициированными элитой и направленными на искоренение коррупции, слишком высоких издержек, связанных с покупкой государственных должностей, и других неэффективно функционирующих политических институтов [11]. Если такие альтернативные объяснения движущих сил демократизации кажутся убедительными, то насколько полезной оказывается предлагаемая модель?
Можно выделить и другой, интригующий, но оказавшийся слабо изученным аспект: от чего зависят конкретные формы «ограниченной демократии»? Как отмечает Бош в отношении европейских стран, демократия, как правило, возникала постепенно (p. 52). Хотя это и согласуется с эмпирическими данными, такое утверждение затуманивает примерно столько же, сколько проясняет. Каково было институциональное содержание «ограниченной демократии» в Европе XIX века? Как менялось это содержание от страны к стране? Почему, например, в Великобритании и Италии избирательные права были во многом ограниченны, при наличии широких гражданских свобод и влиятельного парламента, в то время как в Германии почти все мужчины имели право голоса, тогда как влияние парламента и гражданские свободы были жестко ограниченны? И, самое главное, каковы причины и последствия этих вариаций? Выбор между немедленным введением всеобщего избирательного права или предоставлением среднему классу ограниченных возможностей участия (т. е. между «всеобщим избирательным правом» и «ограниченной демократией», по красноречивому определению Боша) оказывается слишком простым. Беглый взгляд на политический ландшафт Европы конца XIX столетия показывает, что в руках традиционных элит был куда больший диапазон возможностей. Кроме устанавливаемых норм, определяющих категории лиц, обладающих правом голоса, элиты могли оперировать гражданскими свободами, уменьшением власти национальных парламентов или же предоставлять властные полномочия неизбираемым органам государственной власти с целью совмещения демократических реформ с институтами или правилами, которые позволяют смягчить некоторые нежелательные последствия реформ. Это значит, что, если постепенность и была важнейшим элементом истории возникновения демократии в Западной Европе, в целях дальнейшего ее анализа необходимо прояснить, что подразумевается под этим понятием и каково содержаниеэтой постепенности.
Асемоглу и Робинсон: «Экономические истоки»
Всесторонний анализ Асемоглу и Робинсона (АиР) также уделяет большое внимание многим из этих вопросов. В первых пяти главах авторы раскрывают суть своего широкого подхода к изучению демократических и недемократических политических режимов, в центре которого находятся знакомые идеи теоремы о медианном избирателе (см. особенно гл. 4) и проблемы достоверных обязательств (см. гл. 5). С помощью этих инструментов АиР анализируют широкий круг теоретических проблем, включая воздействие среднего класса на демократизацию (гл. 8), влияние структуры национальной экономики на демократизацию (гл. 9) и последствия глобализации для демократизации (гл. 10). Чтобы дать представление о том, какой вклад внесли авторы в развитие каждого из этих вопросов, пришлось бы написать отдельную статью. Вместо этого я остановлюсь здесь на двух из затронутых ими вопросах: влиянии неравенства на демократизацию и роли «уступок» в обеспечении процесса демократизации.
Для изучения влияния неравенства на демократизацию, АиР, как и Бош, используют предпосылки и инструментарий теории рационального выбора, вновь обращаясь к демократиям первой волны и более современному опыту демократизации. Однако, в отличие от подхода Боша, подход АиР по большей части теоретичен и использует яркие примеры для того, чтобы показать эмпирическую значимость своих рассуждений. Акторы, которые осуществляют действия в предлагаемой модели, условно названы «средним классом», «бедными» и «богатыми», хотя авторами и не дается никакого эмпирического обоснования соответствия этих категорий реальности [12]. Предпочтения акторов просты и незамысловаты: богатые боятся демократии из-за потенциальных издержек перераспреления, бедные, в свою очередь, хотят демократии, потому что выигрывают от перераспределения, а средний класс обычно желает ограниченной демократии.
Из этих предпосылок вытекает следующий довод авторов. В недемократических обществах богатые всегда имеют дело с угрозой революции, но бедные, составляющие большинство, не могут достигнуть желаемого (т. е. перераспределения) потому что — и здесь АиР новаторски изменяют логику Бош — у богатых есть три возможности: (1) пойти на уступки (т. е. провести немедленное перераспределение), (2) ввести демократию или (3) провести репрессии. Поскольку политическая власть—вещь переменчивая, то бедные не согласятся с первым вариантом (перераспределение), поскольку, пока богатые по-прежнему будут сохранять власть над политической системой, нет гарантии, что его результаты не будут отменены в дальнейшем. Какой из оставшихся двух вариантов — репрессии или демократизация — будет выбран политической элитой, зависит по большей части (однако не только) от факторов, связанных с уровнем социально-экономического развития: степени экономического неравенства иструктуры доходов в обществе [13].
Хотя эта работа делает вклад в изучение широкого спектра вопросов, я остановлюсь на части исследования АиР, посвященной изучению взаимосвязи между экономическим развитием, неравенством и демократизацией. Объяснение этой взаимосвязи протекает в два этапа. Во-первых, авторы опе-рационализируют понятие демократии как борьбу между двумя основными акторами — богатыми и бедными. Используя в качестве иллюстративного примера Закон о реформе 1832 года, АиР, в противовес Бош, утверждают, что демократизация, как правило, становится вероятной не в тот момент, когда она представляет наименьшую угрозудля богатых, а тогда, когда угроза беспорядков и революции становится наибольшей. Еще в своей более ранней работе АиР утверждали, что растущее экономическое неравенство, вызванное индустриализацией в Англии xix века, сделало угрозу революции настолько серьезной, что богатые готовы были пойти на уступки институциональной демократии [14]. Экономическое неравенство, в соответствии с АиР, делает демократизацию не менее, а более вероятной. В книге, которая предлагает обновленный вариант этого подхода, АиР добавляют к своей аргументации новый нюанс: если экономическое неравенство достигает определенного порогового значения, то правящая недемократическая элита, для которой теперь перераспределение станет слишком дорогой ценой, предпочтет ему репрессии. В этом и состоит дилемма первой волны демократизации. С одной стороны, растущее экономическое неравенство, связанное с экономическим ростом, увеличивает спрос на демократию. С другой стороны, это же экономическое неравенство уменьшает склонность элит идти на уступки по демократизации. Но как же тогда связаны экономическое неравенство и демократизация?
АиР предлагают нам тонкое решение этой дилеммы, которое отталкивается от объяснения взаимоотношений неравенства и развития в концепции Саймона Кузнеца. По мнению АиР, связь между экономическим неравенством и демократией не является монотонной, а, скорее, напоминает перевернутую U-образную кривую. При низком уровне неравенства (Сингапур) спрос на демократию незначителен, а при крайне высоком уровне (Сальвадор и Парагвай) элиты не готовы пойти на уступки формирования демократических институтов ввиду слишком высоких потерь и выбирают стратегию репрессий. Следовательно, изменение демократического режима более всего вероятно притом, что они называют «средним уровнем» неравенства (p. 35). Эта структура, как утверждается, может объяснить, почему демократизация в Европе пришлась на конец xix — начало xx века.
Но, несмотря на предложенное решение, ключевой теоретический вопрос остается. Что именно следует считать «средним уровнем» неравенства? Аргумент АиР, о чем свидетельствует сравнение Сингапура и Сальвадора, ориентирован на абсолютные значенияуровней неравенства доходов в один и тот же момент времени. «Высокое» и «низкое» значения показателя определяются посредством межстрановых сравнений. Но есть ли смысл в таких данных на внутристрановом уровне, т. е. там, где фактически и принимаются решения? Альтернативная точка зрения могла бы утверждать, что спрос на демократию и готовность к реформам связаны с возникновением новых типовсоциальных групп, а не с их относительными доходами. То есть «неравенство доходов» может служить просто косвенным показателем более широких изменений в социальной структуре. Неужели, когда коллективные акторы делают выбор между требованием демократических изменений или сопротивлением им, они сравнивают существующий уровень неравенства скорее всего с неизвестными данными других странах? Может, они на самом деле сравнивают этот уровень неравенства с прошлыми и будущими ожиданиями? Страна, с достаточно низким относительно других стран уровнем неравенства, вопреки ожиданиям АиР, может быть созревшей для восстания, если в течение какого-то времени в ней происходит быстрый рост неравенства. Короче говоря, простой подсчет показателей совокупного неравенства в доходах за соответствующий временной промежуток не может объяснить историю демократизации. Скорее, мы видим, что представления—как верные, так и возможные неверные — реальных индивидуальных и коллективных акторов, включенных в меняющиеся социальные структуры, не менее важны, чем любые «измеримые уровни» неравенства.
Надо признать, что на второйстадии своего анализа АиР пытаются преодолеть неясность, связанную с множеством возможных значений категории неравенства. Здесь же нам представляют и третьего коллективного актора — средний класс (гл. 8). Используя вышеописанную логику, АиР определяют несколько так или иначе связанных с неравенством причин того, почему растущий средний класс увеличивает перспективы демократизации. Основной довод заключается в том, что, по мере роста среднего класса, медианный избиратель становится богаче, тем самым снижается риск того, что полная демократия будет сопровождаться чересчур высокими налогами для элиты. Демонстрация данного утверждения, основанная на серии пространственных игр, протекает в два этапа. Если революционная угроза исходит главным образом от среднего класса, то решающим показателем будет соотношение благосостояния среднего класса и «богатых». Таким образом, если средний класс относительно беден, то недемократическая элита сталкивается с серьезной угрозой с его стороны и делает выбор в пользу «частичной демократии», предоставляя избирательные права среднему классу, но исключая бедных, тем самым раскалывая сопротивляющихся. Если же угроза исходит по преимуществу со стороны бедных, а не от среднего класса, то, в соответствии с АиР, элиты реагируют репрессиями (p. 262-278), блокируя возможность даже частичной демократизации.
Тем не менее остаются два более глубоких вопроса. Во-первых, как признают сами авторы, неравенство само по себе является «размытым» понятием и в определенной степени зависит от восприятия и представлений акторов. Таким образом, сдвиг в сторону демократизации не может быть об объяснен посредством таких анахронизмов, как «средний класс», «богатые» и «бедные», борющихся за «перераспределение». Во-вторых, вместо того, чтобы ограничиться двумя возможными исходами («демократия» или «репрессии»), АиР усложняют собственный анализ добавлением вероятности «частичной демократизации», под которой понимается исключение бедных из процесса голосования. Как и Бош, АиР используют эмпирические данные Англии, где с 1832 по 1867 год происходило постепенное увеличение числа групп с правом голоса и где избирательные права были одним из основных средств манипуляции со стороны элит. Но, опять же, как отмечают сами авторы (см. гл. 6), существуют дополнительные институциональные механизмы, которые могут быть использованы в целях уменьшения негативного воздействия демократических реформ на положение элит. Ввиду отсутствия систематического описания всех таких механизмов в поле зрения постоянно попадаются несоответствующие логике модели эмпирические отклонения [15]. То же самое происходит и в другом случае: если постулируется, что «частичная демократия»—один из наиболее частых исходов, то любой подход к анализу европейской демократизации должен выявлять институциональное содержание и конкретные формы такой «частичности», а также то, в каких случаях подобная демократия оказывается возможной и при каких условиях она способна выжить.
В целом, Бош и АиР оказали хорошую услугу теоретикам демократизации, переформулировав положения структурной теории демократизации с использованием набора упрощенных допущений относительно акторов, их предпочтений и возможных исходов в отношении политического режима. В обоих случаях абстрактные ситуации применяют структурные подходы к демократизации, поскольку они позволяют формулировать более точные гипотезы, которые могли бы объяснить связь между экономическим развитием и демократизацией. Кроме того у них есть важные отличительные черты. Во-первых, использование категорий акторов, ресурсов, и предпочтений дает этим подходам преимущества перед теориями модернизации, основанными на постулатах структурного функционализма и исключающими из своей логики субъекта. Во-вторых, вместо двух возможных исходов («демократия» и «репрессии») в анализ добавляется ситуация «частичной демократии». По иронии судьбы именно эти концептуальные и теоретические достижения и делают анализ неполным. Во-первых, включение в модель абстрактных коллективных акторов — богатых, бедных и среднего класса—рискует повлечь за собой те же проблемы, что и отсутствие субъекта в теориях модернизации. После всего показанного выше все еще не систематического объяснения всех эмпирических случаев нельзя окончательно говорить о том, какие структурные переменные (неравенство, специфичность активов и коррелирующие с ними стратегии акторов) являются причиной, а какие — следствием. Во-вторых, в то время как «частичная демократия» вводится в анализ в качестве наиболее частого исхода, институциональное содержание этого понятия остается неопределенным, т. е. основные черты демократий первой волны оказываются недостаточно концептуализированными.
II. Кто на самом деле способствует появлению демократии?
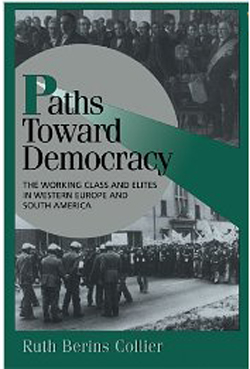 Несмотря на все недостатки, данные подходы, вообще говоря, дают нам ряд полезных предложений о том, как экономические сдвиги меняют социальные условия, создавая возможности для демократизации. Но если отойти от весьма условных коллективных акторов под ярлыками «богатые», «бедными» и «средний класс», то кем именно были важнейшие акторы, которые воспользовались возможностью и добились проведения демократических реформ? Кто является носителем демократизации? Ставшее классическим утверждение Баррингтона Мура гласит: «Нет буржуазии — нет демократии». Недвусмысленная, на первый взгляд, фраза Мура вызвала целые поколения дискуссий, продолжающихся и сегодня [16]. Какими были взаимоотношения социальных акторов первой волны демократизации? В этом разделе я кратко резюмирую две конкурирующие между собой позиции, рассмотрев попытку Рут Беринс Колье найти между ними консенсус. Опять же скажу, что для обоснованного ответа на вопрос о том, какие акторы и коалиции стремились к демократизации, мы должны более внимательно отнестись к случаям сочетания небольших по масштабам демократических реформ и демократических уступок, на которые часто шли элиты перед полномасштабным переходом к демократии.
Несмотря на все недостатки, данные подходы, вообще говоря, дают нам ряд полезных предложений о том, как экономические сдвиги меняют социальные условия, создавая возможности для демократизации. Но если отойти от весьма условных коллективных акторов под ярлыками «богатые», «бедными» и «средний класс», то кем именно были важнейшие акторы, которые воспользовались возможностью и добились проведения демократических реформ? Кто является носителем демократизации? Ставшее классическим утверждение Баррингтона Мура гласит: «Нет буржуазии — нет демократии». Недвусмысленная, на первый взгляд, фраза Мура вызвала целые поколения дискуссий, продолжающихся и сегодня [16]. Какими были взаимоотношения социальных акторов первой волны демократизации? В этом разделе я кратко резюмирую две конкурирующие между собой позиции, рассмотрев попытку Рут Беринс Колье найти между ними консенсус. Опять же скажу, что для обоснованного ответа на вопрос о том, какие акторы и коалиции стремились к демократизации, мы должны более внимательно отнестись к случаям сочетания небольших по масштабам демократических реформ и демократических уступок, на которые часто шли элиты перед полномасштабным переходом к демократии.
Колье: «Путь к демократии»
Рут Беринс Колье в своем впечатляюще кратком изложении двадцати семи национальных кейсов на протяжении двух столетий справедливо отмечает, что возможны два различных ракурса в отношениях элит и рабочего класса к демократии. В первом, который ассоциируется с именами Рюшемайера, Стивенса и Мура, утверждается, что капитализм связан с демократизацией посредством давления, осуществляемого снизу, от «рабочих классов», т. е. социальных групп, создаваемых капитализмом [17]. Согласно этому взгляду, с которым солидарны АиР, демократизация обусловлена стремлением «низов» вырвать власть из рук недемократических политических элит. Это объяснение, поддерживаемое АиР, отражает давнее направление в литературе по истории британского политического развития, согласно которому именно выступления рабочего или даже движение среднего класса в виде Лиги реформ способствовали проведению демократических реформ[18].
Объектом внимания в рамках второго ракурса является партийная конкуренция между акторами внутри элиты. Здесь, согласно известному утверждению Химмельфарб применительно к британскому случаю, демократизация была стратегией «верхов» с целью победы в электоральном соревновании, способом получения политической власти в конкурентной борьбе политических элит [19]. С этой точки зрения демократия достигается посредством договоренностей элит, а не в результате уступок в ответ на угрозы «низов». Поэтому для сторонников этой позиции реформа избирательного права 1832 года считается куда менее значимой в смысле демократических последствий, нежели реформа 1867 года, которая четко очертил аэлекторальные интересы.
Работа Рут Беринс Колье, посвященная вопросу о роли рабочего класса в демократизации, пытается найти баланс между этими точками зрения. Отвергая излишне дихотомичный характер этой дискуссии, Колье приходит к двум умозаключениям. Во-первых, в первой волне демократизации рабочий класс сыграл гораздо менее важную роль, чем принято считать. Во-вторых, во время недавней третьей волны демократизации рабочий класс сыграл более важную роль. Кроме определения степени значимости рабочего класса в каждый период, она также высказывает общее утверждение о демократизации в целом: существует множество траекторий с различной конфигурацией акторов и стратегий, ведущих к демократизации. Не существует единого и однонаправленного пути к демократии. Но вместо привычных общих слов о комплексном характере существующего мира автор пытается определить конечное количество типов коалиций, встречающихся в рамках изучаемых ею двух волн демократизации. В частности, в первой волне демократии она выделяет три общие модели, которые варьировались от страны к стране в xix веке. Первая модель, «демократизация среднего уровня» (middle sector democratization),подразумевает, что либеральные или республиканские группировки требуют от традиционных элит своего включения в процесс принятия решений. Во второй модели, «мобилизация электоральной поддержки» (electoral support mobilization),власть имущие (консерваторы или либералы) в целях политической конкуренции распространяют избирательное право на членов рабочего класса. В третьей модели, «совместный демократический проект» (joint project democratization),обнаруживаемой в Европе начала XX века, происходит объединение либеральных и рабочих партий для проведения демократических реформ. Именно отсюда, по утверждению Колье, становится видно, что рабочие сыграли относительно небольшую роль в достижении странами условий возникновения демократий.
Как получилось, что, работая с эмпирическим полем, давно освоенным множеством политологов и историков, Колье удалось прийти к совершенно иным выводам? Это произошло благодаря использованию ею ряда методологических новшеств. Во-первых, она производит сравнение сразу двух волн демократизации, изучая их на двух континентах, что позволяет по-другому взглянуть на те примеры, которые в рамках других подходов считаются аномальными. Во-вторых, в отличие от большинства предыдущих подходов к анализу первой волны демократизации, она устанавливает точные концептуально-операциональные ориентиры, которые позволяют обозначить точный момент демократизации с использованием четких критериев, дающих возможность определить, что именно происходило в политическом плане в момент, когда страна достигала, по выражению Колье, «порога демократии». Демократизация, согласно рабочему определению, используемому в этой книге, подразумевает принятие трех институциональных атрибутов демократии: всеобщего избирательного права среди мужчин, автономного законодательного органа и гражданских свобод. Анализ концентрируется на случаях, в которых демократизация двигает страну в сторону преодоления «порога демократии», момента, когда существуют всетри атрибута. Вооружившись данным определением, Колье задается вопросом: в самом ли деле рабочий класс был ключевым актором в момент достижения порога демократии? Или этим актором, напротив, оказались либеральные партии и правящие элиты? Преимуществом определения точного «порога демократии» является возможность зафиксировать того, кто играл решающую роль в моментпересечения страной этого порога. Путем расширения критериев сравнения, позволяющих достичь ясности в отношении квантификации данных, она приходит к новым выводам.
Обосновав и определив многочисленные модели и пути демократизации, Колье дает ответ на запутанный вопрос о причинах спора историков и политологов (с присущей и тем и другим всезнанием и тщательностью) относительно того, чем же вызваны демократические изменения: внутри-элитной конкуренцией или требованиями «низов». Как она утверждает, большая часть разногласий вызвана тем, что каждый ученый рассматривает лишь небольшую часть массива эмпирических данных. Если рассматривать только Англию в 1867 году или Италию в 1912 году, можно с уверенностью заключить, что демократизация всегда является следствием внутриэлитной конкуренции. И наоборот, если смотреть только на Германию 1918 года или Англию 1832 года, с точно такой же уверенностью можно утверждать, что исключительным мотивом проведения демократических реформ является страх перед революционной угрозой. Колье стремится решить эту проблему за счет расширения числа стран и ограничения объекта исследования моментом достижения порогового уровня, после которого политическое сообщество может считаться демократическим.
Но уделяют ли свое внимание исследователи демократий первой волны этим моментам? Должны ли мы заниматься толькотеми немногочисленными случаями полного преодоления «порога демократии»? Не упускает ли этот дихотомичный подход потенциально теоретически значимые и имеющие место примеры демократических реформ в тех или иных недемократических режимах? Действительно, если, как утверждает Колье, демократизация предполагает «введение демократических институтов» (p. 24), то не следует ли нам исследовать любойслучай введения всеобщего избирательного права для мужчин, ответственности исполнительной власти перед избранным парламентом или гражданских свобод, независимо от того, вводятся они все вместе или нет? А тот факт, что развитие каждого из этих атрибутов демократии, как правило, шло наперекор другим, на самом деле является ключевым феноменом первой волны демократизации, который и необходимо изучить. И поскольку, по словам Колье, события, составляющие содержание первой волны демократизации, растянулись на целый век, возможно, нам следует проанализировать столько эпизодов частичной демократизации, сколько мы вообще сможем установить за последние несколько веков. В этом случае релевантным будет следующий вопрос: как в течение времени изменялись коалиции, поддерживавшие менее заметные институциональные реформы, которые проводились еще доокончательного перехода к демократии?
В целом, выявление коалиционных основ демократических реформ является ключевой областью исследований и представляет собой важный шаг в сторону от статического анализа, говорящего лишь об «условиях» демократизации. Определяя три пути к «финишной прямой» демократии, Колье замечает, что роль элит в первой волне демократизации была куда более значимой, чем традиционно считают исследователи. Но если мы хотим разобраться в процессе демократизации, следует ли нам смотреть только на «финишную прямую»? Или же нужно просто взять за основу другую единицу анализа—любой случай демократической реформы, независимо от того, в рамках какого, в более широком смысле слова, режима она проводится? Очевидно, например, что ни одна из коалиционных моделей, предлагаемых Колье, не объясняет возвращение к всеобщему избирательному праву для мужчин в 1851 году во Франции Наполеона III или неожиданное введение Бисмарком данного права в Германии в 1867 и 1871 годах [20]. Быть может, стоит остановиться и подумать о значении этих случаев для наших концептуальных схем и оценок, вместо того чтобы отбрасывать их в качестве аномалий? Окончательно понять причины расхождений подходов Колье и АиР, акцентирующих внимание соответственно на поведении элиты и угрозах со стороны низов, можно лишь после того, как используемые для проверки гипотез данные будут постепенно и поэтапно приведены в соответствие и в полной мере отражать смысл, вкладываемый в разрабатываемые концепты теорий демократизации.
III. Как закрепляется демократия?
 Несмотря на то что аналитики в принципе могут прийти к консенсусу по вопросам условий демократизации и конфигурации коллективных акторов, претворяющих ее в жизнь, третья часть каузальной цепи по-прежнему требует уточнения: каков действительный процесс,в ходе которого закрепляется демократия? Предположив, что поведение элит и рабочего класса (без уточнения их относительной значимости) являются ключевыми элементами демократизации, мы должны задаться вопросом: за счет чего достигаются демократические реформы? За счет насилия, уступок или того и другого вместе? Достаточно долго политологи и социологи принимали противоречивый тезис о том, что, несмотря на доступные для демократий ненасильственные методы решения конфликтов, сам процесс демократизации подчас требует насильственных потрясений и трансформаций общества [21]. Является ли политическая революция «низов» обязательной частью для обеспечения демократии? Если да, то почему? Какой тип насилия необходим? И в какой степени необходимо насилия?
Несмотря на то что аналитики в принципе могут прийти к консенсусу по вопросам условий демократизации и конфигурации коллективных акторов, претворяющих ее в жизнь, третья часть каузальной цепи по-прежнему требует уточнения: каков действительный процесс,в ходе которого закрепляется демократия? Предположив, что поведение элит и рабочего класса (без уточнения их относительной значимости) являются ключевыми элементами демократизации, мы должны задаться вопросом: за счет чего достигаются демократические реформы? За счет насилия, уступок или того и другого вместе? Достаточно долго политологи и социологи принимали противоречивый тезис о том, что, несмотря на доступные для демократий ненасильственные методы решения конфликтов, сам процесс демократизации подчас требует насильственных потрясений и трансформаций общества [21]. Является ли политическая революция «низов» обязательной частью для обеспечения демократии? Если да, то почему? Какой тип насилия необходим? И в какой степени необходимо насилия?
Роли насилия и борьбы для демократизации посвящен анализ Чарльза Тилли, а также несколько глав книги АиР. Эти авторы стремятся ответить на вопросы, обозначенные выше. Но в то время как для Тилли политическое оспаривание однозначным образом играет в пользу демократизации, АиР в разных главах строят несколько моделей с различными предпосылками, что приводит их к более осторожным выводам.
Тилли: «Борьба и демократия»
Нетрадиционный способ повествования определяет очевидную новизну работы по демократизации Чарльза Тилли. У читателя, незнакомого с характерным для Тилли в последние годы обращением к «причинным механизмам» (causal mechanisms),при первом прочтении может возникнуть некоторое чувство дезориентации. Но усилия по вниканию в свойственный Тилли дискурс полностью окупаются, поскольку нам предлагаются новые взаимосвязи между насилием и демократизацией [22]. Он отвергает подходы, делающие акцент на слишком отдаленных «истоках» и «условиях» или отводящие чрезмерную роль политическим предпринимателям, способным с помощью различных уловок представить демократическим любое общество. Вместо этого, утверждает Тилли, мы должны обратить внимание на среднесрочные «причинные механизмы», сочетание которых увеличивает вероятность демократизации.
Основание его аргументации глубоко социологично, ибо для демократизации страны необходимы фундаментальные социетальныеизменения. Намерения акторов недостаточно значимы, поскольку переход к демократии возникает как побочный продукт других процессов. Преимущественно используя сравнительный анализ Франции и Англии XVIIIи XIXвеков и частично исследованный случай Швейцарии xix века в качестве иллюстраций своих аргументов, Тилли говорит о нескольких путях демократизации, представляющих одну и ту же конфигурацию социальных изменений. Различные социальные изменения могут быть объединены, в соответствии с Тилли, в две группы: «изменения в сетях доверия» и «изменения в категориальном неравенстве». Результат таких изменений — трансформация публичной политики и возникновение стимулов к демократизации [23].
На этапе «изменений в сетях доверия» правительство должно сделать две вещи для демократизации: ослабить ранее существовавшие социальные сети, обеспечивающие защиту своим членам (примером которых являются патрон-клиентские отношения, поддерживающие людей в таких рискованных делах, как получение образования, заключение брака и торговля, тем самым отдаляя их от правительства); и создать новые, политически связанные сети доверия между индивидами и правительством.
Вторым ключевым механизмом является уменьшение категориального неравенства в обществе. Тилли имеет в виду не только экономическое неравенство, традиционно измеряемое, к примеру, с помощью коэффициента Джини, но и сокращение «устойчивого» и «кастового» неравенства (например: черный /белый, мужчина/женщина). В его прочтении, которое могло бы лечь в основу поправки со стороны социологии к концепции неравенства АиР, категориальное неравенство препятствует демократизации в двух отношениях. Во-первых, если пределы гражданства соответствуют категориальным границам, демократизация блокируется по определению. Во-вторых, существование категориального неравенства подталкивает политических лидеров к предоставлению исключительной частной протекции «своим». Ряд механизмов на микроуровне сглаживает или, по крайней мере, препятствует появлению на уровне формирования политической «повестки дня» упоминаний о неравенстве, в том числе вопросов перераспределения экономических активов и отмены правовых ограничений на владение собственностью.
Оба этих механизма (устранение ранее существовавших сетей доверия и снижение категориального неравенства) стимулируют институциональные изменения, которые, по Тилли, определяют демократизацию, а именно: (1) увеличение полноты и равенства представительства, (2) сокращение властного произвола и (3) взаимообязывающие процедуры обсуждения. Но если устранение существующих сетей доверия и снижение категориального неравенства играют столь важную роль в стимулировании институциональных изменений, что является основой для появления самих этих механизмов?
Именно здесь мы сталкиваемся с важностью оспаривания и насилия: именно насилиеразрушает укоренившиеся социальные практики, сети доверия и категориальное неравенство. Тилли утверждает, что различные виды насилия и протестов способны разрушить социальные структуры, сдерживающие демократию. Революция, как говорил Мур, необходима. Но Тилли выходит за рамки узкой формы концептуализации, приравнивающей насилие к революции, выделяя четыре типа общественного насилия, стимулирующие развитие демократии: завоевание, столкновения между акторами внутри общества, революция и колонизация. Любой из выделенных типов насилия запускает процесс демократизации: разрушаются прежние сети доверия и устанавливаются новые, напрямую связанные с публичной политикой. Категориальное неравенство упраздняется или утрачивает свое значение. В общем, только в условиях глубоких, насильственных и агрессивных социальных изменений происходит запуск «причинных механизмов», приводящих к трансформации и демократизации публичной политики.
Но в чем состоят ограничения этой модели? Не возможны случаи чрезмерного насилия или слишком радикальных социальных изменений? Всегда ли уже сформированные сети доверия несовместимы с демократизацией [24]? На эти вопросы прямого ответа не дается, но, несмотря на это, подход Тилли обращает наше внимание на важную связь между насилием и демократизацией.
Асемоглу и Робинсон: «Экономические истоки»
Асемоглу и Робинсон также обращают особенное внимание на угрозу революции (см., в частности, гл. 6) и тем самым отвечают на некоторые из поставленных выше вопросов. Они разделяют мнение Тилли о ключевой, решающей роли насилия и оспаривания, которую по иронии судьбы оба процесса играют для демократизации. В отличие от Карлеса Боша, который считает, что демократия возникает в моменты снижения угрозы насилия, Тилли и АиР видят в демократии не результат договоренностей среди элит, а ответ на вызовы, возникающие «снизу». Но, несмотря на эту общую (и единственную) черту, в анализе АиР и Тилли имеются четыре принципиальных отличия, приводящие АиР к менее радикальному взгляду на роль насилия в процессе демократизации.
Во-первых, АиР неявным образом отвергают тиллевский концепт «относительной причинности», заключающийся в том, что искомый результат является непреднамеренным побочным продуктом социальных взаимодействий. Фактически АиР предполагают, что коллективные акторы осознанно добиваются этого результата, основываясь на высокой осведомленности о влиянии их выбора на распределение доходов — богатые и бедные группы отвечают на призывы к демократизации достаточно предсказуемо в силу их представлений об ожидаемых последствиях. И в то время как Тилли эксплицитно отказывается от чрезмерного педалирования так называемых когнитивных механизмов (p. 17), АиР делают акцент именно на них. В этом смысле, при одинаковой цели — определении микрооснований или «механизмов» демократизации, логика в их аргументации различна.
Во-вторых, частично вследствие упомянутого расхождения в причинно-следственной связи насилие в модели АиР играет роль, функциональноотличную от насилия в модели Тилли. Согласно Тилли, намерения акторов менее значимы, чем неуправляемые последствия социальных взаимодействий, а оспаривание и насилие приобретают особенную важность ввиду того, что они способны предотвратить блокирование демократизации в самой основе структуры общества. По мнению Тилли, насилие может коренным образом изменить общество. Для АиР насилие, а точнее, «угроза насилия» выполняет роль сигнального устройства, источника информации, побуждающего глав недемократических правительств к реформаторским действиям. Угроза беспорядков осуществляет не столько «социально-трансформационную», сколько информационную функцию, вынуждающую богатых выбирать между уступками, демократизацией или подавлением. В отсутствие массовых беспорядков давления революционных сил не возникает, в результате чего богатые, пользуясь терминологией АиР, сохраняют власть de jureи de facto:демократические реформы активизируются только беспорядками. В этом смысле подход Тилли глубоко социологичен, а подход АиР является узкополитическим.
В-третьих, из-за различия в моделях функций насилия АиР иначе, чем Тилли, концептуализируют идею «насилия», «волнений» и «революции». В то время как Тилли, придающий первостепенное значение тому, как насилие преобразует общество, разрабатывает экспансивную концепцию насилия (завоевание, колонизация, революции и конфронтации), АиР определяют эти понятия более узко и конкретно. Их интересует не социально-трансформирующий эффект насилия, а его роль как сигнала нестабильности и угрозы революции, посылаемого бедными к правящим кругам: они исследуют исключительно угрозунестабильности и волнений в среде бедных. Элиты вынуждены идти на уступки, испугавшись перспективы беспорядков. Поскольку трансформирующий эффект насилия не является главной темой анализа, авторское понятие насилия фокусируется на изменениях стратегий, вызванных его «угрозой»; фактические последствия насилия их не интересуют.
Наконец, ключевая разница между двумя этими подходами заключается в том, насколько революционная смена существующих политических институтов и элит всегдаспособствует демократизации. Как уже говорилось выше, в рамках более социологического подхода Тилли при социальной трансформации частные сети доверия ослабевают и категориальное неравенство исчезает (или, по крайней мере, они перестают быть политическими институтами); иными словами, чем сильнее социальные преобразования,тем более обширна демократизация. В модели АиР, напротив, угроза беспорядков вызывает изменение стратегии элит (а не социальные преобразования), соответственно, роль революции в демократизации для них иная, чем для Тилли. АиР отмечают важный момент: если демократизация означает, что все существующие институты и элиты будут смещены в ходе революционных преобразований, недемократическим элитам привлекательнее использовать репрессии для предотвращения столь невыгодных для них последствий, что будет блокировать любую демократизацию. Если, напротив, додемократические традиционные элиты гарантируют себе сохранение некоторой институциональной власти в условиях демократии или, в терминах Тилли, если сохраняются некоторые остатки частных сетей доверия и категориального неравенства, возможен «мирный переход к демократии, при котором репрессии теряют свою привлекательность для элит» (p. 181). Демократизация, отмечают АиР, может быть поддержана вместе с защитой традиционных сфер влияния. Они формулируют эту провокационную мысль в вводящей в заблуждение манере: «природа демократических институтов может иметь решающее значение в объяснении, почему одни общества демократизируются, а другие — нет» (p. 32). Если под этим имеется в виду, что такие специфические институциональные механизмы, как верхняя палата, джерримендеринг в избирательной системе, влиятельная бюрократия и пропорциональное представительство, могут быть использованы для сохранения элитой контроля в обмен на другие демократические институты, то это позиция принципиально отличается от позиции Тилли. Полагая, что она не потеряет полного контроля над политическими институтами в стране, элита будет более охотно идти на уступки.
Другими словами, у революции должны быть пределы. АиР, однако, признают, что эта стратегия — «палка о двух концах» (p. 182), и именно в этом заключается важная дилемма демократизации. Слишком серьезная трансформация власти может вынудить недемократические элиты отказаться от демократизации в принципе; слишком слабые преобразования не достаточны для гарантии демократии и удовлетворения революционных стимулов тех, кто к ней стремится. Необходим баланс интересов. Хотя АиР проделывают большую работу, доказывая, что точка равновесия существует, они, тем не менее, не определяют ее конкретного положения. Какие уступки старой элите наиболее эффективны для мобилизации их долгосрочной поддержки демократических институтов? Какие уступки менее эффективны? Авторы не дают прямого ответа на эти трудные вопросы, но вместо этого отмечают, что институты обычно «исторически детерминированы» (p. 210). Их явно интересуют так называемые серые зоны, в которых уступки и демократические реформы используются одновременно. Но их собственная аналитическая матрица (постулирующая три такие взаимоисключающие альтернативы для элит, как репрессии, политические уступки или демократизация) увеличивает трудность какого-либо оспаривания этого понятия [25]. Иными словами, авторы поднимают важные теоретические вопросы, но, учитывая несоответствие между прекрасными теоретическими целями и методами их достижения, ответы на них в конечном счете получить не удается.
IV. Путь вперед: направления будущих исследований
Четыре книги, рассмотренные в этой статье, сыграли важнейшее значение в возвращении первой волны демократизации в поле зрения политической науки через разработку новых и зачастую новаторских теорий. В них поднимаются три фундаментальных вопроса, требующие ответа при изучении начального этапа демократизации: что вызывает демократизацию; кто является наиболее важными акторами, проводящими демократизацию; и как происходит закрепление демократии? Рассмотрение работ одновременно позволяет вскрыть недостатки каждой из них. Одно общее упущение заслуживает дальнейшего изучения. В ответе на три приведенных вопроса авторы часто обращаются к понятию «частичная демократия». Но, несмотря на важность этого понятия для объяснения постепеннойприроды демократии первой волны, само по себе оно остается недостаточно определенным и рассматривается как некоторая остаточная категория, располагающаяся между авторитаризмом и демократией.
В заключительном разделе этого обзора мы посмотрим, что стоит за ярлыком «частичной демократии», чтобы найти концептуальные инструменты, позволяющие более вдумчиво обращаться к вопросам причин демократизации. Прежде всего, нами видится абсолютная необходимость более скрупулезной концептуализации процессадемократизации. Демократизация, особенно в контексте европейского исторического опыта, не была синхронной трансформацией, при которой три главных атрибута современной демократии появились практически одновременно. Напротив, в процессе демократизации мы чаще отмечали то, что может быть названо несинхроннойдинамикой, в которой различные аспекты демократии—всеобщее избирательное право, независимость парламента и гражданское свободы — были достигнуты в разное время и, возможно, по разным причинам, а пересечение различных институциональных конфигураций могло иметь крайне важные, но непредвиденные последствия.
Концепция несинхронной смены режимапозволяет включить в себя то, что мы понимаем под демократизацией по трем взаимосвязанным причинам. Во-первых,различные институциональные пространства, обычно охватываемые понятием «демократия» (голосование, гражданские права, подотчетность чиновников), не могут быть достигнуты на основании одинаковых организационных принципов с одной институциональной логикой. Любая часть единого «политического режима» в определенный момент времени может быть создана институтами и правилами, которые функционируют в соответствии с различными и, возможно, противоречащими друг другу логиками. Например, как отмечалось выше, в Германии всеобщее избирательное право для мужчин сосуществовало и даже, как это ни смешно, могло блокировать усилия по укреплению слабого национального парламента из-за слишком небольших размеров избирательных округов, неизбежно ориентирующих политиков на решение частных локальных проблем. Напротив, в Великобритании, Бельгии и Италии ограниченное право участия в выборах представило больше стимулов для либеральных партий, чьим главным приоритетом стало укрепление парламентской автономии. Во-вторых,сосуществующие политические институты в рамках одного политического режима зачастую создаются последовательно и могут сильно отличаться от соответствующих предшественников. Например, группа интересов, находившаяся под строгим контролем сильного парламента в Великобритании и Германии, значимо отличается от коалиции интересов, настаивавших на всеобщем избирательном праве или введении тайного голосования именно потому, что различные черты каждого режима были созданы в разное время. В-третьих,каждая отдельная конфигурация институтов политического режима имеет собственные эффекты «обратной связи», которые порождают различные результаты, не совпадающие полностью с намерениями реформаторов. Например, прогрессивные защитники всеобщего избирательного права в Германии или Великобритании не могли даже предположить, что их программа может потенциально ослабить другие пункты в их повестке дня, вроде парламентского суверенитета или гражданских свобод [26].
Иными словами, такая перспектива позволяет выделить некоторые недооцененные проблемы, с которыми сталкиваются страны в процессе демократизации, поскольку политическая элита не стоит перед бинарным выбором «репрессии или реформы». Скорее напротив, политические элиты сталкиваются с гораздо более широким диапазоном альтернатив [27]. Кроме того, эти альтернативы могут пересекаться самым непредсказуемым образом, приводя к потенциально важным, но непредсказуемым последствиям. Однако самое важное заключается в том, что концептуальнаяинновация, согласно которой политическая система может быть демократизирована при сохранении, пусть и временном, некоторых ключевых своих элементов в руках старой элиты, позволяет нам переформулировать те теоретические вопросы, о которых говорилось выше. Возникают ли различные виды коалиций вокруг специфических типов демократических реформ? Какие комбинации реформ и гарантий могут быть полезными для закрепления демократии? Какие комбинации в долгосрочном периоде позволяют вернуться к демократической стабильности?
Будущие исследования
Многообещающим для будущих эмпирическихисследований представляется перемещение внимания с попыток объяснить бинарные исходы в отношении политического режима («демократия» и «авторитаризм») в определенный момент времени (скажем, в межвоенный период) в сторону микроуровня, на котором происходит формирование специфических национальных сочетаний реформ и гарантий для элит, и того, как эти сочетания способствуют долг
Опубликовано на сайте: 2010-12-11
Комментарии к этой статье:
В Китае запретят публикации без лицензий новостей и в интернете
Центральное телевидение Китая (CCTV)
Мировая экономика. Европейский Союз дал зеленый свет соглашению о свободной торговле со странами Mercosur
Общий рынок Южной Америки (Mercosur)
В Испании законодательно ограничили ставки по потребительским кредитам (?!)
Министр экономики Карлос Куэрпо
Индия. Штат Андхра-Прадеш стал наибольшим для инвестициий в 2025-2026 ф.г.
The Economic Times
Китай. Индекс потребительских цен вырос на 0,8% в декабре 2025 года
Государственное статистическое управление /ГСУ/ КНР
Китай. Индекс цен производителей снизился на 1,9% в декабре 2025 года
Государственное статистическое управление КНР
Турция. Объем экспорта достиг рекордного уровня 1 трлн 538 млрд долл. в 2025 году
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Мировая экономика. Доля США в мировой экономике снизилась до 14,65% в 2025 г.
Данные Всемирного банка и Международного валютного фонда
Мировая экономика. Венесуэла прекратила поставлять нефть в Китай, но продолжает в США
Reuters
В Китае было совершено более 4,5 млрд ж/д пассажирских поездок в 2025 г.
Глава Государственного железнодорожного управления КНР Сун Сюдэ
Китай. Валютные резервы выросли до $3,3579 трлн в декабре 2025 года
Государственное управление валютного контроля /ГУВК/ КНР
Украина. Облигации обеспечили госбюджету 570 миллиардов гривен в 2025 году
Министерство финансов Украины
Мировая экономика. На долю Китая приходилось более 60% мирового роста объема операций экспресс-доставки в период 2021-2025 гг.
Государственное почтовоеуправление /ГПУ/ КНР
Китай. Шанхай ускоряет применение искусственного интеллекта в обрабатывающей промышленности
Белая книга о применении ИИ в обрабатывающей промышленности в Шанхае в 2025 году
Зона свободной торговли между Украиной и США: возможности без иллюзий
Аналитический материал
США активнее привлекали государственные инвестиции, чем развивающиеся страны в 2025 году
Reuters
Маск заявил, что начнет массово производить импланты для управления устройствами мыслями в 2026 году
Reuters
США. Банкротства достигли максимума со времен Великой рецессии (2007–2009 гг.)
S&P Global Market Intelligence
Израиль ввел в строй первый в мире боевой лазер Iron Beam — «Железный луч» полностью интегрирован в систему ПВО
Iron Beam — первый в мире боевой лазер ПВО
Стабильность вашего интернета влияет на отношение коллег к вам
Исследование под названием "Video-call glitches trigger uncanniness and harm consequential life outcomes"
Сфера смерти, 3I/ATLAS и неизвестные дроны: какие 5 неразгаданных до сих пор тайн принес 2025 год
В конце 2025 года сообщения о неидентифицированных объектах в небе, необычной космической активности и противоречивых археологических утверждениях вызвали бурные дискуссии в США, Южной Америке и Египте
Может сформироваться сразу несколько планет-гигантов: ученые исследуют таинственный IRAS 23077+6707
С помощью космического телескопа "Хаббл" NASA исследователи сделали детальные снимки системы, известной как IRAS 23077+6707
Еще древние греки знали об ИИ: почему вера в него опережает доказательства
В 1956 году Джон Маккарти во время Дартмутского семинара ввел термин "искусственный интеллект"
Сомнения вместо оптимизма: ученые обнаружили неожиданную формулу успеха
Профессор психологии в Университете Огайо и автор исследования Патрик Кэрролл
Три месяца под ледяной водой: как ежедневный холодный душ изменил тело и состояние экспериментатора
Lad Bible
Ученые назвали самую распространенную причину смерти
Результаты глобального исследования Global Burden of Disease
Ученые создали первую подробную карту принятия решений в мозге
Международная лаборатория мозга
США. Финансовая безопасность ухудшилась по мнению половины американцев
Опрос The Guardian
В Китае обнародовали правила ценообразования на интернет-платформах
Государственный комитет по делам развития и реформ, Главное государственное управление по регулированию рынка и Государственная канцелярия интернет-информации
Bayraktar AKINCI подтвердил статус стратегического БПЛА: новые испытания с боеприпасами MAM-T, LA??N-82 и TEBER-82 расширяют ударные возможности
Мировая военная авиация переживает структурный сдвиг
Более 40% поляков заявили, что стали беднее, а 33,4% выбрали ответ «скорее стало лучше»в 2025 году
Результаты опроса IBRiS
Государственные предприятия и коммерческий сектор в Китае
Государственные предприятия играют огромную роль в формировании коммерческой экосистемы Китая. Oни составляют основу китайских коммерческих космических кластеров
Индия. Рекордный рост на 6,7% в показал индекс промышленного производства (IIP)
The Economic Times
Китай выделил 62,5 млрд юаней на поддержку программы по обмену старых потребительских товаров на новые на 2026 год
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР
Новая Зеландия вложит $20 миллиардов ПИИ в экономику Индии
Министр торговли Индии Пиюш Гоял
Китай ввел более низкие тарифные ставки на часть импортных товаров в 2026 году
Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР
В США оценили, сколько рабочих мест забрал искусственный интеллект
Аналитическая компания Challenger, Gray & Christmas
Украина собрала 57,6 миллиона тонн зерна в 2025 году
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины
Китай. В Синьцзяне введен в эксплуатацию коридор для транспортировки угля с применением ИИ
Жэньминь жибао
Китай расширит охват программой по субсидированию приобретения автомобилей по схеме трейд-ин в 2026 году
Министерство коммерции КНР
Китай. Государственные предприятия увеличили доход на 1% в январе-ноябре 2025 года
Министерство финансов КНР
Китай. PMI в непроизводственном секторе составил 50,2 в декабре 2025 года
Государственное статистическое управление /ГСУ/ КНР
Китай. PMI в производственном секторе составил 50,1 в декабре 2025 года
Данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР
Автопилот впервые в истории совершил аварийную посадку самолета: робот спас жизнь людям
Система автопилота взяла управление самолетом на себя и полностью автономно совершила аварийную посадку
В Украине налоговые поступления в госбюджет выросли на 20% в 2025 году
Государственная налоговая служба Украины
В китайском Даляне введен в эксплуатацию первый в мире интеллектуальный супертанкер «Кайто» на метаноле
Жэньминь жибао
Шведский стартап NAD разработал дроны-перехватчики Kreuger для охоты на «Шахеды»
Cтартап Nordic Air Defence
Действительно ли физика утверждает, что свободы выбора не существует
Американский физик Пол Саттер
Ледник в Гренландии трещит по швам: ученые наблюдают процесс в режиме реального времени
Исследователи из Института Альфреда Вегенера
Найдена странная причина того, почему люди моргают: это нужно не только для увлажнения глаз
Ученые из Университета Конкордия
200 лет назад Земля погрузилась в затяжную зиму: событие, запустившее этот процесс
Исследователи рассказали о крупнейшем вулканическом извержении в истории планеты
Ученые решили столетнюю загадку физики: можем ли мы путешествовать во времени
Физики из Хайнаньского университета, Китай
Пропавший в Антарктиде робот вернулся спустя 9 месяцев: принес данные
Австралийское национальное научное агентство CSIRO провело эксперимент в Антарктиде
Телескоп NASA показал "фабрику звезд" в галактике, которая врежется в Млечный Путь
Потрясающая фотография демонстрирует “фабрику по производству звезд” внутри соседней галактики Большое Магелланово Облако
Крупный бизнес РФ заявил о сильнейшем с 1990-х годов кризисе в промышленности
The Moscow Times
Китай. На цифровое потребление приходится почти половина всех потребительских расходов граждан
Китайский информационный интернет-центр. «Отчет о развитии цифрового потребления-2025»
Филиппины. Правительство продлило запрет импорта сахара до декабря 2026 года
Министерство сельского хозяйства Филиппин
Китай. Объем продаж на внутреннем игровом рынке превысил 350 млрд юаней в 2025 году
Доклад Китайской ассоциации аудио-видео и цифровых издательств /CADPA/
Украина в мировом рейтинге развития ИИ поднялась на 14 позиций
Government AI Readiness Index 2025 от Oxford Insights
85% украинцев планируют оставаться в стране: продолжают работать или искать новую работу
Аналитика GRC.UA «Барометр рынка труда»
ТОП-10 самых комфортных для жизни городов мира
Исследование Location Ratings от ECA International
Украина. Как выросла стоимость новогоднего стола за последние 7 лет
Данные Института аграрной экономики
Китай. Беспилотник-невидимка «Цайхун-7» совершил первый испытательный полет
Жэньминь жибао
Южная Корея. С 22 января 2026 г. начнет действовать закон «О развитии ИИ и формировании доверительной основы»
СМИ
Япония. Школа беспилотников D-Academy Tohoku с использованием БПЛА и ИИ разрабатывает систему обнаружения медведей
Kyodo News
За что штрафуют туристов в разных странах мира: самые странные запреты
Seven Seas Worldwide
США. Трудности с поиском работы испытывают выпускники Стэнфордского университета по специальности «компьютерные науки»
Los Angeles Times
Турция. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) увеличился на 35% за 10 месяцев 2025 года
Международная ассоциация инвесторов
Украинцы в Польше обеспечивают себя самостоятельно, а не за счет социальных выплат
Аналитический материал
Товарооборот Китая с Казахстаном вырос на 9,3% в январе-ноябре 2025 г.
Главное таможенное управление /ГТУ/ КНР
Об этом месте никто не знал: археологи нашли 2500-летний памятник в Афганистане
Arkeonews
Секрет долголетия: древняя ДНК объясняет, почему некоторые люди живут 100 и более лет
Исследование опубликовано в журнале GeroScience
Ученые обнаружили, что времена года на Земле имеют странную аномалию: это влияет на все живое
Исследование опубликовано в журнале Nature
Человечество случайно создало барьер вокруг Земли: что известно
Миссия NASA под названием Van Allen Probes, состоявшая из двух космических аппаратов, с 2012 про 2019 год изучала радиационные пояса Земли
Китай. Летающие автомобили стали главным хитом автосалона в Чанша
Разработка компании Xpeng AeroHT – модульный летающий автомобиль
Китай лидирует в коммерциализации технологии производства электроэнергии с использованием сверхкритического диоксида углерода
Китай первым в мире осуществил коммерциализацию этой инновационной технологии
Водород не спасет нашу планету от кризиса, он делает еще хуже (!?): что выяснили ученые
Исследование опубликовано в журнале Nature
Китай. В Синьцзяне к концу текущего года откроют движение по самому длинному в мире тоннелю на скоростной автостраде
Синьхуа
Европейские сахарники просят ЕС ограничить импорт сахара-сырца из Украины
"CEFS (Европейская ассоциация производителей сахара) и C.I.B.E. (Международная конфедерация европейских производителей сахарной свеклы)
Китай. Рост железнодорожных грузоперевозок 2,7% за 11 месяцев 2025 года
Китайские железные дороги
Китай. Число новых предприятий с иноинвестициями выросло на 16,9% за 11 месяцев 2025 года
Министерство коммерции КНР
Time назвал лучшие изобретения 2025 года
Американский журнал TIME обнародовал ежегодный рейтинг «Лучшие изобретения года», который публикует уже 25 лет подряд
Украина. Оборонная промышленность обеспечила треть роста ВВП в 2024 году
Министр стратегических отраслей промышленности Украины
Тайвань закупил около 97 950 тонн пшеницы американского происхождения в марте 2024
Тайваньская Ассоциация мукомолов
Главные черты личности, которые есть у всех миллионеров
В 2020 году швейцарский банк Credit Suisse поделился, что в мире существует около 56 миллионов долларовых миллионеров. Большая часть из них живет в США, Китае и Японии
Компания Chrysler будет выпускать только электромобили к 2028
генеральный директор Chrysler Крис Феуэлл
45% украинцев регулярно не хватает денег
аналитика Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) «Исследование рынка кредитования в Украине»
В Украине в среднем выплачивали 3 507,51 грн пенсии в 2020: за год она возросла на 13,8%:
пресс-служба Пенсионного фонда Украины
Украинская компания попала под санкции США из-за нефти из Венесуэлы
«Голос Америки» со ссылкой на Минфин США
США. Tesla выбрала два места для строительства своего нового крупнейшего завода
Рассматриваются Остин (штат Техас) и Талса (штат Оклахома)
Власти Индии анонсировали масштабный пакет финансовых стимулов
премьер-министр страны Нарендр Моди
В Украине стартовал проект кредитования аграрной отрасли с участием ЕИБ
пресс-служба Минэкономразвития Украины
В Украине Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ
сообщение комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
Украина. Вкладчики банка Михайловский получили почти 2,5 млрд грн возмещения
пресс-служба ФГВФЛ Украины
Белорусская компания получила рекордный подряд на строительство дороги в Украине
“Наші гроші” со ссылкой на данные в ProZorro
Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги
Формула учитывает размер прожиточного минимума и средний количественный состав домохозяйства, коэффициент среднего по стране размера расходов на оплату ЖКУ (0,15)
Украина. Банки наращивали кредитование физлиц на 5,8% за 1-й кв 2019 и на 34,4% год к году
пресс-служба НБУ
В Турции планируют выпускать электротракторы, способные работать на одном заряде 8 часов
TRT Haber
В Украине хотят ввести медстрахование: с каждого по 400 грн
Застрахованными должны быть все, говорится в законопроекте №9163
Мировой рынок печатающей техники практически не растёт - только на 0,9 % больше в 2018
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала статистику по мировому рынку печатающей техники (Hardcopy Peripherals, HCP)
Стало известно, как будут рассчитываться пенсии работающих пенсионеров с 1 апреля 2018
пресс-служба Пенсионного фонда Украины
Samsung запатентувала смарт-светр, що перетворює енергію людини, заряджає гаджети
Gagadget.com
Украина. Оценка привлекательности банковского сектора для иностранных инвесторов
издание Realist
Американские конгрессмены хотят добиться приостановки сотрудничества Украины с Россией по вопросам обслуживания межконтинентальных баллистических ракет для РВСН
Аналитический материал
Проституция, наркотики и контрабанда в ВВП Италии
Доходы от проституции, продажи наркотиков и контрабанды будут включены в расчеты объемов ВВП Италии
СНГ. Украина – не Россия: топ-5 отличий между двумя моделями экономик
Аналитический материал
СНГ. Российскому бизнесу пообещали "налоговые льготы" в обмен на $5 млрд инвестиций в Крым
Такое решение приняло правительство России на заседании 27 марта 2014
США. Деловая активность в секторе услуг продолжала расти в январе 2014
Соответствующий индекс вырос до 54 пунктов, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM)
Украина. Национальный банк Украины потребовал от банков раскрыть сведения о всех своих собственниках
Ранее банки должны были отчитываться только о владельцах существенного участия, принадлежащим более 10% акций
Мировая экономика. ЕС готов предоставить Украине доступ к газовой системе через Словакию
Тем самым это в значительной степени сократит зависимость от импорта энергоносителя из России по высоким ценам
Глава госслужбы занятости Наталья Королевская обещает до конца года трудоустроить 26 тыс человек
Она напомнила о трех критериях, по которым будет оцениваться деятельность службы занятости
МВФ отключит газ. Насколько вырастут коммунальные тарифы
Аналитический материал. Почему повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно
ЕС. Кипру не хватает 75 млн евро для избежания дефолта в апреле 2013
Дефицит наличных средств в казне составляет 160 млн евро, а в резерве правительства имеется 85 млн евро
Украина. Сколько украинцы готовы отдавать на милостыню?
Большинство украинцев не готовы давать милостыню больше пяти гривен, при этом половина жителей страны определяется с тем, стоит ли подавать милостыню в зависимости от того, кто просит и на что
ЕС. Бельгийцев признали богатейшими в ЕС с рекордной суммой финактивов в 67 тыс евро
По данным Национального банка Бельгии, недвижимые активы бельгийцев выше, чем финансовые, а общая стоимость недвижимого имущества жителей страны – около триллиона евро
США. Прибыль Bank of America снизилась на 65% по итогам IV кв 2012
Чистая прибыль сократилась до $700 млн, или 3 цента на акцию, а за аналогичный период годом ранее BofA зафиксировал прибыль в $2 млрд, или 15 центов на акцию
Азия. КНР впервые за 12 лет рассекретила данные о социальном неравенстве
Коэффициент Джини в Китае составил 0,474 в 2012, что говорит об относительно высоком уровне социального неравенства
ЕС. ЕК выделила 70 млн евро странам юго-восточного региона по программе "Эразмус Мундус"
Всего ЕК объявила конкурс заявок на сумму около 200 млн евро в рамках финансируемой ЕС программы “Эразмус Мундус II” на 2013
Бережливость – самая вредная, по мнению производителей, привычка, которой обзавелись люди в последнее время
Первая волна кризиса схлынула, но желание экономить осталось
СНГ. Газпром удвоил чистую прибыль по сравнению с 3-м кв 2011 в 3-м кв 2012
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя газа – Газпрома по стандартам МСФО выросла до 305 млрд руб со 152 млрд руб за аналогичный период 2011
Украина. Кабмин утвердил порядок компенсации 3,9 млрд грн для "Нафтогаза"
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минэнергоугля
Швейцарский национальный банк продолжил ужесточение правил в апреле 2012
Банк Швейцарии создал самостоятельную единицу, подчиняющуюся председателю правления и, при необходимости, Председателю Комитета по аудиту Совета Банка
ЕC. Греция одобрила кредитную программу ЕС
"Тройка" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) предлагает Греции 130-миллиардную кредитную программу и списание долга на 100 миллиардов евро
ЕC. Решения S&P о понижении рейтинга будет иметь далекие последствия за пределами Еврозоны
Германия, возможно, сохранит кредитный рейтинг, но решение о сокращении рейтинга Франции до АА+, означает, что Берлин будет платить больше
Украина. Трудовые эмигранты стали присылать больше денег
За три квартала 2011 объем частных денежных переводов из-за рубежа составил $5,126 млрд - на 21% больше, чем за три квартала 2010
Барак Обама выбрал нового экономического советника
Предполагается, что администрация президента использует опыт экономиста в решении проблемы безработицы
Азия. Китай: г. Пекин стремится к сокращению годового потребления угля до 20 млн тонн
Об этом сообщил представитель пекинской администрации
РФ. Число убыточных банков выросло на 40% в 2011
числе проблемных на 1 августа оказались 127 кредитных организаций
Азия. Уровень безработицы в Японии за июль вырос до 4,7% в июле 2011
В июне доля безработных составляла 4,6% от трудоспособного населения страны
Банковский регулятор ЕС рассматривает механизмы помощи банкам на случай кризиса
Европейская банковская организация (ЕБО) рассматривает возможные опции для оказания финпомощи банкам региона, которые будут испытывать сложности с ликвидностью, сообщает газета The Financial Times.
МВФ согласился выделить Сербии миллиард евро
По условиям договоренности с МВФ, Сербия должна сократить государственные расходы
ЕС. Индекс делового климата в Германии вырос до 110,3 пункта в январе 2011
... до 20-летнего максимума
2010 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Среднегодовая температура в 2010 году составила 14,53 градуса Цельсия
РФ. Глава Банка России: задача на 2011 год — снизить инфляцию до 6-7%
В июле 2010 года годовая инфляция снизилась до 5,5%
Азия. Потребление нефти в КНР выросло на 15,2% в ноябре 2010
...из-за дефицита дизтоплива
Pixel Qi анонсировала три новых отражающих дисплея
Производством отражающих экранов займется тайваньская компания Chunghwa Picture Tubes
В Центральном Китае обнаружено крупное месторождение каменной соли
разведанные запасы которого оцениваются в 4,3 млрд тонн
США. Потребительская уверенность в США остается негативной
только 12% респондентов выразили доверие экономике
Forbes составил рейтинг крупнейших покупок миллиардеров
самую дорогую покупку в мире в 2010 году совершил россиянин, Роман Абрамович
ЕС. Минфин Кипра: Страна вышла из рецессии
Кипр перенес кризис достаточно легко по сравнению с другими государствами еврозоны
США. Рост ВВП США составил 2,6% в III кв. 2010
Аналитики прогнозировали, что рост показателя составит 2,8%
РФ. МЭР: Рубль окреп к доллару на 2,8% в январе-ноябре 2010
Ослабление российской валюты к швейцарскому франку составило 0,65%
Азия. Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений
В этом месяце ЦБ начал приобретать финансовые активы в рамках широкомасштабного пакета мер
Азия. ЕС поможет КНР с признанием его экономики рыночной
договорились о том, что ЕС рассмотрит вопрос об отмене ограничений на экспорт в Китай высокотехнологичных товаров
ЕС. Грецию, Ирландию и Португалию призывают покинуть еврозону
Идея выхода слабых экономик ЕС из еврозоны начала циркулировать в мировых финансовых кругах примерно год назад
ЕС. Греция отстает от программы сокращения дефицита бюджета
рецессия в Греции будет глубже, чем предполагалось ранее
Украина. Сальдированная чистая прибыль банков Украины составила 1,204 млрд грн в ноябре 2010
Банки Украины вернулись к прибыльной деятельности
Азия. Объем торговли КНР и Тайваня вырос на 39,7% в 2010
За 11 месяцев 2010 года товарооборот составил $131 млрд 760 млн
Создана реалистичная модель движения толпы
Исследователи из университета Тулузы и Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе ...
Надежна ли виртуальная ИТ-инфраструктура?
Виртуализация – общепризнанный тренд во всем мире
Мировая экономика. В мире возник дефицит ликвидности доллара США
ФРС США в мае привела в действие временный механизм обмена валютой ...
Asustek выпустила нетбук с матовым экраном
Компьютер базируется на процессоре последнего поколения Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц
ЕС. Испания приняла план сокращения бюджетного дефицита
Восстановление испанской экономики по-прежнему отстает по темпам от других европейских стран
Мировая экономика. Сильный доллар снизил цену на золото
Золото 21.03.2010 подешевело в цене до минимальной за три недели
Азия. Вэнь Цзябао признает наличие проблем в финансовой системе Китая
В китайской финансовой системе существуют нерешенные вопросы, требующие продолжения реформы в этой области
Украина. Ревальвационное давление на гривню продолжилось
На украинском валютном рынке 22 марта 2010 года, продолжилось ревальвационное давление на гривню
Украина. Бюджет не смог получить доход
План доходов общего фонда госбюджета в феврале не был выполнен на 20%
Sony Ericsson выпускает смартфон с сенсорным экраном и HD-съемкой
Внешне устройство похоже на Sony Ericsson Xperia X10, но имеет более обтекаемую форму и базируется на операционной системе Symbian
Samsung расширяет линейку ноутбуков шестью новыми моделями
Новые модели ноутбуков Samsung R780, R580 и R480 с процессором Intel Core i5-520M отличаются повышенной быстротой работы
Sony анонсировала ноутбуки с процессором Core i7
Они оснащены процессорами Core i7 и дисковым массивом из четырех SSD-накопителей
Украина. В рейтинге экономических свобод Украина оказалась на уровне Африки
В рейтинге 2010 Index of Economic Freedom Украина занимает 162-е место среди 183 стран мира
Азия. В Иране будет проведена деноминация валюты
Из нынешнего номинала иранского риала предполагается "выбросить" три нуля
ЕС. Отпускные цены производителей в Германии снизились на 4,2% в 2009
Снижение отпускных цен в ФРГ побило 60-летний рекорд
РФ. Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве вырос на 11,8% в 2009
Цены в Москве растут быстрее, чем по всей стране
Мировая экономика. ВБ: Мировой ВВП увеличился на 2,2% в 2009
В 2010 году рост составит 2,7%
Создана банковская карточка, показывающая состояние счета без банкомата
"Умную" банковскую карточку изобрела Группа промышленных дизайнеров из Южной Кореи
В Интернете появится социальная сеть для пользователей кредиток
В 2010 году в Интернете появится новая социальная сеть под названием Blippy
Благими намерениями... Климатический саммит завершился подписанием "важного" необязывающего договора
РФ. S&P повысил прогнозы по рейтингам ряда российских компаний
...после изменения прогноза рейтинга РФ
США. Оценка роста ВВП пересмотрена до 2,2% с 2,8% в III кв. 2009
Аналитики не ожидали пересмотра показателя
Украина. Может выйти по объему привлеченных инвестиций на докризисный уровень в 2010
Речь может идти о сумме от 10 млрд. долларов
Украина. Членство в Энергетическом сообществе ЕС будет стимулировать реформы энергетического сектора
США. Объем просроченных выплат по ипотеке достиг 42,06% в ноябре 2009
По словам аналитиков сложившая ситуация не изменится вплоть до 2011 года
США. Обанкротились семь банков за 19.12.2009
Таким образом с начала 2009 года в США закрылись уже 140 банков
Азия. ВВП Тибета составил $5,9 млрд
...увеличившись на 12,1% по сравнению с прошлогодним показателем
Азия. Эмиссия наличных денег в Китае превысила $32 млрд с начала 2009
...увеличившись на 72,5%
Мировая экономика. Долговые проблемы Дубая вызвали синхронизированный спад на мировых финансовых рынках
Биржевые индексы по всему миру - от Шанхая до Бразилии - обвалились
Чип величиной с ноготь вместит 250 миллионов страниц текста
...что примерно в 50 раз больше, чем емкость современных чипов памяти
Мировая экономика.Кризис обошелся каждому налогоплательщику в 10 тыс. долл.
ВВС: Всего мир потратил на борьбу с кризисом более $10 трлн.




 UA
UA RU
RU EN
EN


